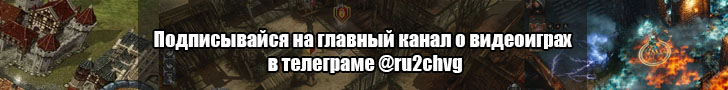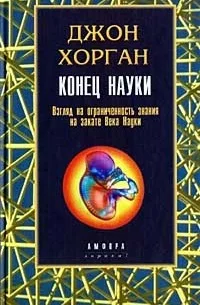

В 1811 г. ставший впоследствии знаменитым французский математик Огюстен Луи Коши (1789 - 1857) в своем докладе о границах человеческого познания утверждал, что математика в целом завершена; в лучшем случае полем ее деятельности может быть применение изученного. В геометрии и алгебре, теории чисел и анализе все важное уже открыто. Однако в дальнейшем - написав более 800 научных трудов! - он стал одним из самых продуктивных математиков всех времен, и это только в области теории функций, одном из разделов анализа!
В 1875 г. один из абитуриентов спросил у профессора физики в Мюнхене Филиппа фон Жолли, следует ли ему изучать физику. Жолли отговаривал его: там нет ничего принципиально нового, что можно было бы открыть. «Остается лишь рассмотрение некоторых частных случаев» Абитуриент все же не дал себя запугать: он изучает физику и становится виновником, пожалуй, самой великой революции, которая только произошла в физике, одним из создателей квантовой механики. Это был Макс Планк, который открыл квант действия.
По Альберту Майкельсону (1894), «большинство основополагающих принципов могут быть прочно закреплены, так что последующих достижений можно ожидать главным образом в применении этих принципов...» Он пишет об этом в 1902 г., всего лишь за три года до появления теории относительности Эйнштейна и до объяснения им фотоэффекта квантовыми свойствами излучения5.
100 лет назад директор американского патентного ведомства оставил должность на основании того, что все фундаментальные открытия совершены; в дальнейшем на рассмотрение могут быть предложены лишь варианты известных тем; в связи с этим в существовании его поста нет необходимости.
И Уильям Томсон, с 1892 г. лорд Кельвин, отмечает в своем докладе 1900 г., что физика близка к завершению и вскоре ста- S нет точной и закрытой наукой.
Идея финализма сейчас в большой моде. В условиях кризиса современной культуры1 и нарастающего вала глобальных проблем, которые грозят вполне зримыми катастрофами. Мы являемся свидетелями всевозможных "прогнозов конца". Авторы с высоким рейтингом цитируемости рисуют: одни -апокалиптические картины конца человечества, другие - конца человеческой истории, которая завершится триумфом либерализма, третьи - конца философии, четвертые - конца науки и т.п. Некоторые из них довольно быстро отказываются от своих (зачастую бездоказательных) прогнозов или сопровождают их оговорками, которые обесценивают сами эти прогнозы, по крайней мере, частично. Тем не менее, подобные прогнозы многими воспринимаются всерьез, привлекают внимание общества, инспирируя всевозможные комментарии, дискуссии и фобии. В частности, оживление среди интеллектуалов вызвала книга Дж.Хоргана "Конец науки" вышедшая в 1996 году; русский перевод, 10 лет спустя Хорган написал статью в которой выразил свое отношение к этим дискуссиям. Проблема "конца науки", как отмечает и сам Хорган, далеко не нова. Она ставилась на разных этапах ее истории. Давно набивший оскомину разговор Ф.Жолли с молодым М.Планком - отнюдь не единственный. Вот еще пример. Г.Бете, по свидетельству Хоргана, не считал, что физика будущего узнает нечто по-настоящему новое и удивительное - такое, как, например, квантовая механика. Это, по его мнению, "не очень вероятно" Бете не думает, что будущая фундаментальная физическая теория "в каком-либо виде вытеснит квантовую механику" Книга Хоргана тоже не уникальна. Г.Фоллмер приводит в своей статье впечатляющий список посвященной этой теме работ. Одни принимают идею "конца науки", другие решительно ее критикуют - что Хорган чувствительно испытал на себе. Его книга - вовсе не самая серьезная, а лишь одна из наиболее типичных и, в силу разного рода пиаровских причин, вызвавшая наибольшую сенсацию. Книга носит, по преимуществу, дескриптивный характер и не содержит какой-либо целостной концепции. Но она полезна как повод для дальнейшего обсуждения перспектив науки. Как согласие, так и несогласие с идеей конца науки, обосновывается разными аргументами. Я изложу свои.
По словам Хоргана, сначала он принимал за нечто само собой разумеющееся, что наука бесконечна, т.е. всегда будет развиваться Но беседы с выдающимися естествоиспытателями и философами изменили его точку зрения. Книга посвящена изложению причин этого поворота.
1) уровень, так сказать, "интеллектуальных игр", который характерен для большей части текста;
2) уровень философских и модельных размышлений (о реальности, истине и т.п.) - мы находим его, главным образом, в форме отдельных вкраплений при изложении взглядов цитируемых Хорганом авторов;
3) уровень социокультурных вставок, в которых будущее науки связывается с перспективами человечества. Мы коснемся всех этих уровней, обратив внимание на то, как затрагиваются на каждом из них проблемы космологии и ее будущего.
Каковы же, все-таки, причины, по которым, согласно Хоргану, мы приблизились к закату "Века Науки"? Они - двоякого типа. С одной стороны - это аргументы, которые могут быть подвергнуты рациональному обсуждению, с другой - Хорган явно осознает недостаточность приводимых им рациональных суждений в пользу своего утверждения, поскольку большинство из них эффективно оспариваются. Вот почему он широко прибегает к аргументации (если ее можно так назвать) совсем иного типа. Многие страницы книги изобилуют попытками воздействовать на психологию читателя (особенно Хорган злоупотребляет эпитетом "мрачный"). Переход от рациональной аргументации к психологической, которая и оказывается чем-то вроде "последнего слова" -характерная черта книги Хоргана. Доводы Хоргана, приводимые в книге и статье, удобно сгруппировать следующим образом.
Вопервых, некоторые науки подошли к границам объекта своего исследования, - например, география. На Земле уже не осталось места для великих географических открытий. Этот довод кажется неотразимым, и тем не менее, он просто-напросто ошибочен. Наука космической эры перешагнула границы Земли, и сейчас изучает поверхности ряда других планет - Меркурия, Венеры, Марса, а также многих спутников планет (Луны, Титана и др.). В серьезных научных изданиях можно встретить термин "география Венеры", и он никого не смущает. Точно так же, как мы привыкли к употреблению в научных контекстах термина "атом" (т.е. неделимый), хотя давно знаем, что атом делим. География стала отправным пунктом и частным случаем планетографии, ее объект расширился. То же произошло и с геологией; возникла новая наука - космическая геология. Без опыта географии и геологии было бы невозможно изучать другие планеты. И напротив: сравнительное изучение планет и спутников Солнечной системы приводит к значительному прогрессу в самих географии и геологии, создает возможности для разработки новых теоретических схем и моделей в этих науках. Но ведь то же самое справедливо в отношении множества других наук. Макромикрофизика, космохимия, космическая биология, космическая физиология, стремительно расширяют объекты своего исследования. В этих процессах, по нашему мнению, наглядно осуществляется гегелевская идея о единстве конечного и бесконечного. Во-вторых, и в науках, границы которых не очерчены столь четко, как в географии, происходят мало приятные для них вещи.
https://royallib.com/book/horgan_dgon/konets_nauki_vzglyad_na_ogranichennost_znaniya_na_zakate_veka_nauki.html
http://flibusta.site/b/250761
Одним из наиболее удачных выражений, характеризующих современное представление о научном реализме, является фраза Ричарда Бойда: «Научный реализм есть широкая (overarching) эмпирическая гипотеза».
По мнению ряда авторов (Дж. Смарт, Х. Патнэм), она наилучшим образом схватывает то, что собственно должен утверждать реализм. Научный реализм является онтологической доктриной, утверждающей, что теоретические объекты, постулируемые наиболее успешными научными теориями, существуют. То же самое можно переформулировать в «эпистемологическом ключе». Проблема научного реализма - это проблема доверия научному знанию: реализм утверждает, что у нас есть достаточно хорошие основания для того, чтобы полагать, что наиболее успешные научные теории являются (приближенно) истинными. В процессе научного познания ученые выдвигают предположения и постулируют существование «ненаблюдаемых» теоретических объектов, таких как электроны, кварки или кривизна пространства-времени. Более того, эти принятые допущения (теоретические объекты) наилучшим образом описывают и объясняют наблюдаемый мир, приводя к предсказанию новых явлений. Следовательно, реализм можно считать широкой эмпирической гипотезой, которая получает подтверждение в силу того, что сам научный реализм предлагает наилучшее объяснение успешности науки и развития научного знания.
Что можно сказать о месте «истины»? Эта традиционная трактовка (Р. Бойд) неизбежно приводит к «семантической» трактовке реализма: теоретические объекты, постулируемые наиболее успешными научными теориями, существуют только потому, что эти теории (приближенно) истинны. «Семантическая» трактовка плоха тем, что в конце концов проблема реализма превращается в проблему указания терминов, а это, в свою очередь, может приводить к «тяжелым последствиям». Внутренний реализм Х. Патнэма является следствием скепсиса в отношении возможности устанавливать отношение указания. Одно из возможных направлений преодоления подобного «наследия» лингвистического поворота («переводить» все философские проблемы в область анализа языка) - реализм «без истины».
Майкл Девитт предложил одну из наиболее строгих трактовок научного реализма. Реализм, как онтологическая доктрина, должен быть полностью «свободен» от понятия «истина», оно не участвует в формулировке доктрины: «реализм является философской теорией относительно того, как устроен мир, а не относительно природы языка или мышления». С точки зрения Девитта, проблема «неправильного» понимания места «истины» в доктрине «реализм», заключается в том, что, как правило, когда мы говорим о научном реализме, смешивается то, что собственно утверждает реализм, и то, что является аргументами в его пользу. Реализм утверждает существование объектов, в общем случае, объективной реальности, а истинность в смысле проверки предсказаний теории является аргументом в его пользу. Более того, традиционно предполагается, что реализм «по определению» неразрывно связан с корреспондентной теорией истины. Это не совсем так. Действительно, вывод «от реализма», т.е. когда уже предполагается существование объекта и наличие пропозиций, которые описывают свойства этого объекта, к корреспондентной теории является простым абдуктивным выводом. Тем не менее обратное не верно, поскольку корреспондентная теория просто предполагает, что реальность действительно «ответственна» за истинностные значения предложений. Из корреспондентной теории мы можем «вывести» только часть доктрины реализма, а именно тезис независимости, тезис существования из нее не следует.
Напомним, сам по себе реализм - это два тезиса: тезис существования, который утверждает, что, такие обыденные вещи, как деревья или объекты, постулируемые научными теориями, такие как кварки, действительно существуют, и тезис независимости, который утверждает, что они существуют независимо от нашего сознания. Одно дело, когда мы говорим о существовании объекта (электроны, протоны и нейтроны существуют), и совсем другое, когда мы говорим о значении экзистенциальных утверждений (выполняются ли для предложения «атом состоит из ядра, состоящего из протонов и нейтронов, и электронных оболочек» условия истинности как соответствия?). Для того чтобы адекватно, с точки зрения «хорошего» реализма, проинтерпретировать вопрос: «Является ли предложение истинным в смысле корреспондентной теории?» - необходимо сначала постулировать существование объекта, о котором утверждается, а затем ответить на вопрос: «Выполняются ли условия соответствия?» (именно здесь мы обращаемся к корреспондентной теории). Только после выполнения этих двух условий мы можем сказать, что предложение «Атом состоит из ядра, состоящего из протонов и нейтронов, и электронных оболочек» истинно в смысле истинности как соответствия. По этой причине реализм, который защищает М. Девитт, называют «объектным»: теоретические объекты, постулируемые наиболее успешными теориями, существуют объективно. Истина может присутствовать в доктрине реализма только в виде тезиса эквивалентности. Я вижу дерево не в силу предположения, что оно существует (вижу мир таким, как если бы дерево существовало), а потому, что дерево действительно существует. Мир, данный нам в ощущениях, таков не в силу предположения, что атомы существуют, а потому, что атомы существуют объективно. Нельзя не отметить, что на первый взгляд приведенные соображения выглядят несколько «тривиальными». Однако тривиальными они по большей части выглядят тогда, когда мы говорим об обыденных вещах (дом, дерево, машина и т.д.). Как только мы переходим к обсуждению объектов, постулируемых научными теориями, вопрос о том, каким образом мы убеждаемся в их существовании, перестает быть тривиальным. Именно здесь кроется одна из причин того, почему реализм «не может избавиться» от истины, -мы полагаем, что «хорошие» научные теории истинны, следовательно, принимая истину как соответствие, мы приходим к выводу, что, например, электроны существуют. Понятие «истины» необходимо, оно служит своеобразным «связующим звеном» между нами и реальностью. Поэтому тезис независимости важен. Следствием тезиса независимости является то, что истина (то, как она понимается с точки зрения «хорошего» реализма) должна быть эпистемически независимой (epistemically independent) в том смысле, что «то, каким образом мы получаем знание об объекте, то, насколько мы можем знать об объекте, для реалиста должно полностью не зависеть от принятых онтологических представлений»
На наш взгляд, эпистемически независимый характер истины является ключевым для понимания места «истины» в доктрине «реализм». Тем не менее можно выделить несколько оснований, которые заставляют нас «расширить» доктрину реализма, видоизменить и даже отказаться от эпистемической независимости истины. Во-первых, можно согласиться с рассуждениями Х. Патнэма. Мы говорим, что он «смешивает» то, что собственно должен утверждать метафизический реализм, и то, что является аргументом в его пользу (теоретико-модельный аргумент направлен против «семантической» трактовки реализма) Ряд исследователей указывают на ошибки в «математической» части аргументации (Д. Льюис, Т. Бэйс). Однако нельзя отрицать значимость его рассуждений для понимания соотношения «реализма» и «истины» (см., например, аргумент «мозг в баке).
Теоретические и операциональные ограничения, являясь единственными ограничениями на указание, не могут определить указание единственным образом, - это достаточно веское основание для того, чтобы перейти к пониманию истины как рациональной приемлемости и последующему «конструктивистскому» пониманию реализма. С нашей точки зрения, эта часть теоретико-модельного аргумента неприложна. Задача состоит не в том, чтобы опровергнуть Х. Патнэма, а в том, чтобы, оттолкнувшись от теоретикомодельного аргумента, построить достаточно адекватное представление об истине, для того чтобы ограничить влияние конструктивизма. Ранее мы уже отмечали, что рассуждения Х. Патнэма аналогичны рассуждениям И. Канта, «закрывшего дыру» между объектом и субъектом в области эпистемологии, на которую указал Д. Юм. Х. Патнэм стремится «закрыть дыру» в области семантики, между термином и референтом: «Сознание и мир совместно конструируют (jointly make up) сознание и мир. Объект не существует независимо от концептуальной схемы. Мы дифференцируем (cut up) мир на объекты, когда вводим те или иные схемы описания» Соответственно, место «эпистемической независимости» занимает «интерсубъективность» (трансцендентальность). Естественно, реализм - это онтологическая доктрина, и проблемы, связанные с определением указания терминов или, в более широком контексте, с оценкой обоснованности теории, не могут «повлиять» на тезис существования, у них разные основания аргументации. Тем не менее можно ли выделить (и как) какие-нибудь свойства интерсубъективности, чтобы ограничить «вмешательство сознания» в реализм? Отметим, что принятие во внимание «сознания» также ведет к необходимости отказаться от эпистемической независимости истины. Например, предпосылкой рассуждений Б. Тэйлора выступает необходимость ввести в дискурс «о реализме» анализ «ментального»: мы должны распространить тезис об объективном и независимом существовании и на область «ментальных сущностей» Реализм не может быть онтологической доктриной только относительно «внешнего мира», того, который является объектом исследования физики, биологии и других естественных наук. Более того, мы должны трансформировать тезис существования (а на самом деле в основном тезис независимости) таким образом, чтобы позволить существовать самим ментальным сущностям, т.е. предоставить основания возможности реализма «относительно ментального». На наш взгляд, Б. Тэйлор также «смешивает» тезис существования и тезис независимости. Атака на тезис существования под предлогом «опровержения физикализма» является традиционным аргументом антиреалистов (Л. Лаудан, Б. ван Фраассен). И ввиду того, что в «западной традиции», лишенной «диалектических настроений», в определенном смысле «царят» картезианские представления или те или иные формы дуализма, попытка ввести в дискуссию «о реализме» реализм относительно ментального в принципе не противоречит самой идее реализма. Однако, по нашему мнению, дуализм не является «хорошей компанией» в данном случае. Да, реализм, в отличие от физикализма, не противоречит дуализму, поскольку не является редуктивной доктриной, а физикализм, наоборот, противоречит, т.е. в общем случае если физикализм влечет реализм, то обратное не верно. Более того, с точки зрения тезиса существования, например, следует признать и И. Канта и В.И. Ленина реалистами: предположение о существовании непознаваемой трансцендентной реальности вещи-в-себе и предположение о существовании объективной реальности в данном случае эквивалентны. Тем не менее вопрос о том, чем онтологический статус теоретических объектов физики (электрон) отличается от онтологического статуса, например теоретических объектов психоанализа (бессознательное), должен иметь решение «на одном» основании. В любом случае, введя в рассмотрение «ментальное», мы также приходим к необходимости анализа интерсубъективности как объективности.
Третий аргумент в пользу трансформации представления об эпистемиче-ской независимости более искусственный, но в то же время и более наглядный. Когда мы говорим о науке или развитии научного знания, то подразумеваем только один вид истины - «эмпирическую»: хорошие теории должны делать предсказания, которые могут быть проверены эмпирически. Что можно будет сказать о месте «истины» в ситуации, в которой мы не сможем воспользоваться традиционным представлением об «эмпирическом характере» истины? Остановимся на анализе этой ситуации подробнее.
Отметим, что большинство характерных черт, которые мы можем отнести к понятию «научная рациональность» (а представление об эмпирическом характере истины ему и принадлежит), некоторым «внутренним образом» закреплены в представлении о гипотетико-дедуктивной модели развития научного знания. Гипотетико-дедуктивная модель (У. Уэвелл) утверждает, что теория должна дедуцировать следствия, они должны эмпирически проверяться и по modus tollens подтверждать или опровергать теорию. Такие понятия, как «обоснование», «успешность» и «прогресс», а следовательно, и «истина», полностью закреплены в ней . Можно ли представить себе ситуацию, в которой гипотетико-дедуктивная модель развития научного знания «не работает», и что тогда будет с «истиной»? Да, более того, уже сейчас можно указать не на гипотетическую, а на реальную ситуацию, в которой традиционный показатель эмпирического успеха науки (успешная теория должна делать эмпирически проверяемые предсказания) уже не является релевантным отражением успешности [8. С. 70-71]. Подобным примером служит теория, которая обладает свойством теоретической или структурной однозначности (theoretical or structural uniqueness). Такая теория имеет только одну модель и единственным образом «предсказывает» все имеющиеся эмпирические данные Феномен структурно однозначной теории подробно проанализирован нами в работе [5], здесь же остановимся на том, что структурно однозначная теория, прообразом которой выступает теория струн, является наиболее яркой, предельной, в смысле эмпирического обоснования, теорией, отражающей иронический характер того фундаментального естествознания, которое будет соответствовать «концу науки» (Дж.Хорган, Д.Линдлей).
Любая постановка проблемы онтологических допущений теории в области иронической науки потребует адекватной формулировки реализма и, соответственно, «истины». Ситуация не является тривиальной, поскольку, говоря о том, что теория струн изменяет наше представление об эмпирическом характере обоснования научного знания, мы имеем в виду то, что структурно однозначная теория является «новым типом» теории, чьи предсказания могут быть обоснованы исходя исключительно из теоретических соображений. Структурно однозначную теорию принципиально невозможно «проверить» в традиционном эмпирическом смысле (в смысле гипотетико-дедуктивной модели), о чем красноречиво свидетельствует, например, преобразование Г-дуальности, связывающее различные модели теории струн. Очевидно, что в данном случае адекватная онтологическая доктрина должна отказаться от «классического» представления об истине как соответствии и опираться на представление, «созвучное» представлению об истине как рациональной приемлемости (Х. Патнэм) или суперутверждаемости (К. Райт).
Проблема интерпретации того, что такое прогресс научного знания является классической проблемой современной философии науки. Согласно традиционным воззрениям, прогресс заключается в том, что в ходе развития научного знания происходит замена одних, «старых», теорий на «новые», которые по крайней мере являются более истинными, чем «старые» (Ч. Пирс, К. Поппер, И. Ниинилуото). Отметим, что именно такое понимание прогресса, как приближения к истине, является одной из составляющих основного («окончательного») аргумента в пользу научного реализма - аргумента «Чудеса не принимаются» (Х. Патнэм): «это [научный реализм] единственная философия, которая не рассматривает (make) успешность (success) науки как нечто похожее на чудо». Связь «успешности» и «прогресса» достаточно очевидна, однако, при ближайшем рассмотрении оказывается, что центральной дефиницией для понимания и успешности научных теорий и прогресса научного знания является истина. Во-первых, успешность научной теории состоит в том, чтобы вести к истинным предсказаниям. Во-вторых, понятие «прогресс» по своей сути является аксиологическим: «мы говорим, что переход от системы утверждений А к системе утверждений Б является прогрессивным, если Б является улучшением А, т. е. Б лучше чем А относительно некоторой
цели научного исследования»6. Следовательно, традиционное представление справедливо только тогда, когда в качестве основной цели научного исследования выбирается именно понятие «истина», что не всегда очевидно7. Таким образом, понятие «истина» и здесь будет ключевым, что может стать причиной определенных затруднений в понимании прогресса.
Ранее мы уже отмечали те проблемы, которые влечет «семантическое» понимание научного реализма, отводящее истине основное место: теоретические объекты устоявшихся, принятых научных теорий существуют (например, электроны и кривизна пространства-времени реальны), поскольку эти теории являются (приближенно) истинными, где под истиной понимается «старая» корреспондентная теория - истина есть соответствие реальности8. Именно «семантическое» понимание реализма ответственно за проблему «референциальной пропасти», пессимизм в отношении решения которой является одним из оснований «возрождения» кантовского конструктивизма в современной философии науки9. Во всех этих случаях показано, что реализм «без истины» (М. Девитт) является адекватной онтологической платформой для разрешения противоречий, вызванных неправильным пониманием места концепции истины в доктрине реализма10. Предполагается, что и в данном случае, в контексте анализа проблемы объяснения прогресса научного знания, реализм «без истины» может сыграть конструктивную роль. Концепция реализма «без истины» и представление об истине как соответствии (необходимый элемент аксиологической трактовки научного знания) вместе, абдуктивно, способны объяснить факт научного прогресса (замена «старых» теорий «новыми», которые считаются более прогрессивными). Представление о сходимости (конвергентности) теорий является еще одним аргументом в пользу научного реализма. В качестве эвристики анализируется понятие прогресса в рамках того представления о развитии научного знания, которое соответствует представлению о развитии структурно однозначной теории и представлению о достижении «предела» развития «эмпирической науки» (Дж. Хорган, Р. Дэвид)
Как отмечает М. Девитт, понятие «истина» было вовлечено в качестве конституирующего в доктрину научного реализма «незаконно»; более того, реализм как онтологическая доктрина может быть «свободен» от понятия «истина» в том смысле, что в самой формулировке реализма оно не участвует. С точки зрения М. Девитта, проблема «неправильного» понимания места «истины» в доктрине реализма заключается в том, что, как правило, когда говорится о научном реализме, смешивается то, что собственно утверждает реализм, и то, что является аргументами в его пользу. Реализм утверждает существование объектов, в общем случае - объективной реальности, а истинность в смысле проверки предсказаний теории является аргументом в его пользу. Более того, традиционно предполагается, что реализм «по определению» неразрывно связан с корреспондентной теорией истины. Это не совсем так. Действительно, вывод «от реализма», т.е. когда уже предполагается существование объекта и наличие пропозиций, описывающих свойства этого объекта, к корреспондентной теории является простым абдуктивным выводом. Тем не менее обратное не верно, поскольку корреспондентная теория просто предполагает, что реальность действительно «ответственна» за истинностные значения предложений. Из корреспондентной теории мы можем «вывести» только часть доктрины реализма, а именно тезис независимости, в то время как тезис существования из нее не следует. Ранее, рассматривая аргументацию в пользу научного реализма, мы уже отмечали, что понятие «истины» также никак не связано с понятием или объяснением «успешности» научной теории. Научный реализм сам по себе является успешным: успешность теории объясняется свойствами постулированных «ненаблюдаемых» объектов, а не свойствами принятых теорий истины или указания; объяснение явлений проверяется успешностью предсказаний относительно «наблюдаемых» объектов. Что можно сказать относительно взаимосвязи понятий «прогресс» и «истина»?
Одной из наиболее популярных точек зрения относительно природы прогресса является его интерпретация через понятие «сходимости» (convergence).
Пусть теория Т’ приходит на замену теории Т. Мы говорим, что теория Т' лучше, чем теория Т, в силу того, что она более успешна, т.е. имеет больше истинных и меньше ложных предсказаний относительно «наблюдаемого», чем Т. Сходимость в данном случае будет
означать то, что традиционно обозначается и схватывается понятием «увеличения правдоподобия» (increasing verisimilitude): Т’«ближе к истине», чем Т. Предполагается, что концепции, подобные концепции «увеличения правдоподобия», ответственны за понимание цели научного исследования. В рамках научного реализма такой целью выступает «истина»
Ряд исследователей (например, Л. Лауцан и С. Блэкберн) настаивают на том, что понятие «сходимости» является конституирующим для реализма, а это не совсем верно. Следуя подходу, предложенному М. Девиттом, можно показать, что это не так. Предположим, что сходимости нет. В этом случае сама доктрина реализма «не пострадает»; это не значит, что неожиданно реализм без сходимости может вдруг окажется «ложным». Реализм - это концепция относительно существования «ненаблюдаемых» объектов. Более того, не выполнение требования сходимости не приведет к отрицанию необходимости понимания истины как соответствия (внутри доктрины реализма): Т и Т’ могут быть истинны (или ложны) в смысле истины как соответствия, и, тем не менее, не сходиться. Различные направления антиреализма (например, конструктивный эмпирицизм Б. ван Фраассена или внутренний реализм Х. Патнэма) также могут отвечать принятому представлению о сходимости. Более того, требование понимания истины как соответствия само по себе не является необходимым: нам требуется какое-то представление об истине, например, истина как эмпирическая адекватность (Б. ван Фраассен) или рациональная приемлемость (Х. Патнэм). Таким образом, очевидно, что концепция сходимости не является конституирующей для доктрины реализма.
Следующий вопрос: требуются ли концепции, такие как доктрина реализма или истина как соответствие, для объяснения представления о прогрессе? Во-первых, рассмотрим, что значит сходимость с точки зрения реализма. Термины Т и Т’ по большей части являются указующими, причем множество «объектов», на которые указывает Т, будет включено в аналогичное множество Т'. Далее, представление об истине как соответствии будет являться основанием для того, чтобы задать для Ти Т’ соответствующие «степени истинности».
Постмодернистский тренд от научности к литературности заметен даже в философии науки. И если книгой столетия в этой области стала двусмысленная «Структура научных революций», то книгой десятилетия стал ироничный «Конец науки».
Двойственный «конец науки» Дж. Хоргана следует из двух наименее разработанных идей двойственной «структуры» Т. Куна. Первая -проблема несоизмеримости парадигм, вторая - проблема ненаправленно-сти развития. Кун исходит из сходства эволюции науки с эволюцией жизни. «Структура научных революций» не признает никакой предустановленной цели процесса познания так же, как «Происхождение видов» не признает никакой предустановленной цели процесса жизни. Процесс идет от примитивных начал, но не направлен к чему-либо. Возрастание организованности и специализированности организмов есть ненамеренное следствие естественного отбора (взаимодействия среды и организма); возрастание конкретности и специализации дисциплин есть ненамеренное следствие отбора парадигм (конфликта в научном сообществе). Несоизмеримость ведет к нарушению коммуникации через фронт научной революции. Ненаправленность ведет к нарушению коммуникации через перегородки научной специализации. Несоизмеримость парадигм отрицает беспристрастность науки как движение к объективности,
ненаправленность развития отрицает прогресс науки как приближение к истине. ервая сближает науку с искусством и философией, вторая подводит науку к неопределенному пределу: «Что эти идеи означают для будущего науки? Не станет ли она походить на симфонию, переходящую в диссонанс, на зеркало, разбивающееся на все более мелкие кусочки?». И если Кун говорит о возрастании специализации и ослаблении коммуникации в науке, то Хорган говорит о фрактальности науки: о бесконечной дробимости границ, не раздвигающей горизонт; о бесконечной ветвимости проблем, не возбуждающей интерес. Даже самый впечатляющий рост специализации, например в медицине, ничего не добавляет к фундаментальному описанию реальности.
Новизна не является целью науки, наука очень консервативна. «Природа должна сама первая подрывать профессиональную уверенность». Но если нет экспериментальных прорывов, остаются только все более мелкие головоломки в рамках все более превалирующих парадигм:
«Кун понимал, что при силе современной науки и склонности ученых верить в многократно протестированные теории, наука вполне может войти в фазу постоянного нормального состояния, в котором невозможны последующие революции или открытия». Сила современной науки, наряду с точностью и инструментальной эффективностью, состоит в необъятной области приложения. Квантовая и эволюционная парадигмы столь же фундаментальны, сколь и всеохватны. «Новые эксперименты, новые приложения и новые постановки старых вопросов» только подкрепляют квантовую механику. И даже открытие внеземной жизни не изменит «аксиомы биологии», также как создание планетной геологии не изменило принципы «науки о Земле».
По сути, Дж. Хорган говорит о «смерти науки», убиваемой своей минующей силой, так же, как Х. Блум говорит о «смерти поэзии», убиваемой своей минувшей силой. Надо сказать, аналогия со «Страхом влияния» придает «Концу науки» цельность и блеск. И если Блум видит «истощение последыша» в лучших современных стихотворениях, то Хорган видит «истощение последыша» в успешной Стандартной Модели Сарказм ситуации в том, что за считанные годы риторика физиков поменялась полярно: с триумфа - в 1983 г. на разочарование.
«Слабые» ученые оттачивают господствующие парадигмы, «сильные» их критикуют и перетолковывают, хотя и те, и другие используют одни фундаментальные теории. Наука более не открывает знание, а умножает мнения, чем становится сродни литературной критике и философской герменевтике, занятых бесконечными толкованиями. Наиболее ярким примером является обескураживающее разнообразие интерпретаций квантовой механики. Если в эссе Дж. Хорган еще описывает превращение науки «в эзотерическое и фракционное предприятие», то в книге он уже описывает вырождение науки в «ироническую критику». С одной стороны, наука переходит в фазу постоянной нормальной науки со все большей детализацией эмпирических исследований. С другой стороны, наука переходит в фазу иронической науки со все большей безудержностью спекулятивных гипотез. Версия самого Хоргана - постмодернистская бесконечность конца. Больше никаких эмпирических сюрпризов - только тоска по научным революциям. В конце XIX в. предтеча постмодернизма Ф. Ницше писал, что «сама критика не производит какого-нибудь практического действия, а порождает опять только критику». В конце века XX, эпигон постмодернизма, Дж. Хорган пишет, что «ироническая наука... напоминает нам... о том, как мало мы знаем... но ироническая наука не делает никакого значительного вклада в сами знания» . За время после публикации иронические прогнозы Хоргана не только сбылись, но и усугубились. С годами реакция на хоргановский «Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки» будет все точнее повторять реакцию Блума на ницшеанское размышление «О пользе и вреде истории для жизни»: «Оно воздействовало отрезвляюще уже тогда, и его еще больнее читать сегодня».
«Конец науки» является предельной манифестацией «конца эпистемологии» и блестяще иллюстрирует концепции «постпозитивистской» философии ситуациями «постэмпирической» науки. Проследим параллели с такими заметными позициями, как «неопрагматизм» Р. Рорти и «внутренний реализм» Х. Патнэма. Оба философа выступают против метафизического реализма, который провозглашает, что есть «реальность сама по себе», и эпистемологического фундаментализма, который провозглашает, что есть «абсолютные основания познания». «Пришло время моратория на Онтологию и Эпистемологию», - пишет Х. Патнэм.
Если для теории достаточно быть эмпирически адекватной, то парадигма неизбежно вовлекает как онтологические предпосылки, так и ценностные предпочтения. И если для первой можно ограничиться интерпретационной функцией, то вторая запускает герменевтический круг. В основе метафизического реализма Патнэм усматривает метафору «Божественного Взора»: когда мир рассматривается как совокупность объектов, независимых от сознания. Соответственно, возможно единственное и полное описание мира. Патнэм блестяще деконструирует эту «внешнюю» метафору, показывая, что референции на объекты мира не навязываются самими объектами. Что вопрос, из чего состоит мир, имеет смысл только внутри какого-либо описания, в рамках какой-либо теории: «... Имеются исключительно точки зрения действительно существующих личностей, отражающие различные интересы и цели, которым служат их описания и теории». По выражению Т. Нагеля, есть разные взгляды «здесь и теперь» (view from “now here”), но недостижим единый «Взгляд Ниоткуда» (“view from nowhere”). В основе эпистемологического фундаментализма Р. Рорти усматривает метафору «Зеркала Природы»: когда разум рассматривается как независимая от языка, истории и культуры сущность, которая «отражает» объекты мира. Соответственно, возможно достижение истины - точного «соответствия» представлений реальности «самой реальности». Эпистемология исследует процессы «отражения» и отбирает «неопровержимые репрезентации», достигая «незыблемых оснований» знания. Рорти блестяще деконструирует эту «зеркальную» метафору, показывая, что репрезентации объектов мира не навязываются самими объектами, что доступ к уму всегда опосредован физиологией и языком, образ мира всегда исторически преходящ и социально обусловлен: «... Исследование оснований знания. может быть просто апологетикой, попыткой увековечения некоторой конкретной во времени языковой игры, социальной практики или самоимиджа»
В духе прагматизма оба демонстрируют, что истина имеет характер не соответствия, а обоснованного верования. Обоснование является целостным процессом, этим практика научного исследования не отличается от литературной критики или политического действия. Патнэм полагает, что научная теория не может подтверждаться «предложение за предложением».
Рорти считает, что в познании мы не способны «изолировать базисные элементы». Патнэм говорит о «реконструктивной рефлексии» разума, снующего туда и обратно - между фактами и ценностями, между методом и разговором, между частью и целым:
«Существует своего рода петля обратной связи: основываясь на существующих нормах и стандартах оправдания, мы открываем факты, которые сами по себе ведут к изменению в картинах, питающих эти нормы и стандарты (и, следовательно, косвенным образом к изменению самих норм и стандартов)»
Рорти прямо называет эту петлю герменевтическим кругом . Именно герменевтику - теорию интерпретации - Рорти противопоставляет эпистемологии - теории познания. Именно интерпретацией, а не познанием, занята постэмпирическая наука.
Эпистемология искала «общие основания» познания, «нейтральный каркас» исследования, «окончательный контекст» описания, который сделал бы все дискурсы соизмеримыми. Но, как показал Кун, полная соизмеримость недостижима, а, как показал Дэвидсон, полная несоизмеримость бессмысленна. И Рорти констатирует очередной конец -«конец эпистемологии». Но если нет эпистемологии, то нет и рационального согласия:
«Холистические теории дают право каждому конструировать его собственное маленькое целое - его собственную маленькую парадигму, его собственную маленькую практику, его собственную маленькую языковую игру - и затем вползать в них»
Именно наука всегда считалась областью, где преодоление разногласий возможно, так как «общим основанием» выступает «несомненная связь с внешней реальностью» - объективность, научные факты. Но все меньше эмпирических сюрпризов - и все больше эстетических оценок. И Хорган провозглашает следующий конец - «конец науки». Но если нет эмпирической науки, то нет и эмпирической адекватности - главной когнитивной ценности науки, позволявшей достигать рационального согласия. Иронические теории дают право каждому конструировать его собственную маленькую парадигму. «После эмпирики» от науки остается ироническая критика, так же, как «после эпистемологии» от философии остается герменевтика. Согласно Хоргану, в постэмпирическую эпоху в науке происходит своеобразный «герменевтический поворот».
Тогда как эпистемология есть попытка «чистого разума» выйти за пределы истории в поиске вневременных оснований, герменевтика напоминает, что разум неизбежно пред-рассудочен и историчен. Поэтому нет общих оснований. Но тупик эпистемологии -возможность для герменевтики: «С точки зрения герменевтики, быть рациональным это значит желать освободиться от эпистемологии... и желать освоить жаргон собеседника, а не переводить его в свой
1 Например, в космологии открытия ускорения расширения Вселенной и анизотропии космического фона куда менее значительны, чем открытия самого расширения и самого фона.
2 Так, в интерпретациях квантовой механики разговор идет об «уродливости» постулата редукции, «привлекательности» унитарности физики и т. п.
Герменевтика способна устанавливать связи между разными культурами, историческими периодами, дисциплинами, «преследующими несоизмеримые цели в несоизмеримых словарях». Если для эпистемологии и эмпирической науки главное - завершение исследования, то для герменевтики и иронической науки главное -продолжение разговора. Для иронической науки нет окончательной теории, так же как для герменевтики нет окончательного перевода.
Герменевтика не столько другой путь познания - понимания, в противоположность объяснению, - сколько другой путь «совладания с материалом». Целью мышления здесь является не познание, а «образование», как называет Гадамер «некоторый вид осознания прошлого, которое изменяет нас», и «наставление», как называет Рорти «проект нахождения нового, лучшего, более интересного способа разговора». Вслед за экзистенциалистами герменевтики рассматривают поиск объективного знания как всего лишь один из многих человеческих проектов.
Контраст между эпистемологией и герменевтикой Рорти обобщает до контраста между «систематической» философией, которая нормативна и конструктивна, и «наставительной» философией, которая есть реакция на первую:
«Великие систематические философы конструктивны и выдвигают свою аргументацию. Великие философы-наставники настроены на то, чтобы реагировать сатирой, пародией, афоризмами. <...> Великие систематические философы, подобно великим ученым, строят для вечности. Великие философы-наставники разрушают ради собственного поколения. Философы-систематики хотят направить свой предмет по безопасному пути науки. Философы-наставники хотят иметь свободное место для чувства удивления, которое иногда может быть вызвано поэтами.»
Сильные ученые не строят для вечности - они критикуют признанные теории. Анормальный дискурс всегда паразитирует на нормальном дискурсе, ироническая наука - на эмпирической науке. Уилер сыплет афоризмами, Бом составляет коаны, Дайсон отвечает притчами, Линде демонстрирует ловкость рук, Эдельман становится в позу, мистики атакуют сознание... В конце концов пределы размываются неопределенностями: наступает «конец концеведения», и Росслер шипит на демонов. «Затмение. Страдание. Пародия - / повсюду на арене мироздания» - историю иронической науки впору писать ироническому поэту. На худой конец, ироническому критику: «Поэт Джон Китс придумал термин "негативная способность" для описания способности некоторых великих поэтов оставаться “в неуверенности, тайнах, сомнениях без раздражающего стремления к фактам и разуму”. <...> Самой важной функцией иронической науки является служение негативной способности человечества»
Поэтика науки у Хоргана то метаисторична, как поминки по Просвещению, то фантасмагорична, как поминки по Финнегану. Фантасмагоричны ненаблюдаемые «вселенные-детки» Линде, который «мучился от мистических томлений, что одна физика не может решить всё»
Фантасмагорична компьютерная «искусственная жизнь» Лангтона, которого «приводит в отчаяние линейность научного языка». Фантасмагорична мифоэкологическая «ересь Геи» Лавлока, в коей сходятся воедино поэтика науки «на закате Века Науки» и поэтика политики «на закате Современности». Можно сказать, «настоящее исследование представляет собой пари, что другой способ мышления -присущий, например, некоторым видам поэтического творчества и мистицизма - может противостоять господству форм мысли, наделенных наукой и философией особыми привилегиями в западных культурах» (пари «против метода», заключенное еще Фейерабендом).
На «закате Запада» сначала Хайдеггер проговаривает необходимость отхода от исчисляющей рациональности науки и техники, затем Рорти приветствует попытки перехода к поэтической активности по придумыванию новых целей, слов и дисциплин. Систематичности противопоставляется наставительность как надежда на продолжение «разговора Запада» . С одной стороны, ироническая наука - это вырождение исследования в разговор. С другой стороны, сильные ученые не смогут возродить эмпирическую науку, но они могут помочь предотвратить ее становление на путь постоянной нормальной науки. Сдвиг разговора Запада «от религии через философию к литературе» продолжается: «Наука пойдет по пути, уже протоптанному литературой, искусством, музыкой и философией. Она станет более интроспективной, субъективной, рассеивающейся, преследуемой навязчивыми идеями и неспособной отойти от своих методов». У каждого своя интерпретация квантового измерения, так же как у каждого свое прочтение литературного произведения.
«Иронический либерализм» Рорти фиксирует положение либерала в эпоху постмодерна, когда уже никто не верит в единую историю человека. «Ироническая наука» Хоргана фиксирует положение ученого в эпоху постэмпирики, когда уже никто не уверен в единой теории природы. Все теории равно спекулятивны и метафизичны. Остается только ирония: «Никогда не беги за автобусом, женщиной или космологической теорией, потому что через несколько минут появится другая».
За концом поэзии следует конец философии, за концом философии следует конец науки. Вслед за перечитыванием сильными поэтами великих предшественников идет пересмотр Хайдеггером истории философии, вслед за передразниванием Витгенштейном концептуального анализа идет переинтерпретация сильными учеными фундаментальных теорий. Сильные поэты Блума взыскуют не истины, а обретения себя, философы-наставники Рорти - иного самоописания, сильные ученые Хоргана -мистического откровения. Полный постмодерн!
В «Рождении трагедии» Ницше пишет, что чем большую область охватывает наука, тем больше парадоксов она встречает», - начинает Патнэм свои Кантовские лекции ничего не оставляющей за своими пределами» до парадоксального предела, за которым иронично проявляется «реализм с человеческим лицом». Ученые от Галилея до Гейзенберга переплавляли парадоксы в открытия, которые вели к новым парадоксам и новым открытиям, ad infinitum. Но сегодня наука охватывает столь большую область, что остаются сплошные парадоксы (все по Канту: опыт как предел, и антиномии за пределом). Остроумный Хорган показывает глупейшие лица умнейших людей и доводит иронию над «упертыми искателями Ответа» до жестокого предела, за которым парадоксально проявляется «наука с человеческим лицом» (Автор иронично оставляет судить читателю - умирает ли наука как фарс).
Вот так можно было весь твой тред одной картиночкой охарактеризовать, а ты всё пасты какие-то подбирал)
Ну таки да. Кажется, мол, все, кварки нашли, меньше уже ничего не будет и не возможно быть. Физика закончилась
Ницше не завершил философский переход. А мог бы. Поэтому при всём уважении, но он пидорашка
Таким образом, приведенные рассуждения заставляют сделать вывод: даже если ограничить место «истины» в доктрине реализма привязкой к тезису независимости, существует необходимость анализа тех характеристик истины, которые могут расширить наше представление о ее эпистемической независимости. Основное ограничение в данном случае - препятствие конструктивизму: мы можем перейти к представлению об истине a-la рациональная приемлемость, но не можем «чересчур радикально» трансформировать тезис независимости.
Вернемся к рассуждениям Б. Тейлора, он отталкивается от следующей формулировки реализма: «Реализм утверждает, что объекты определенного вида К существуют объективно, в том смысле, что объективность существования каким-то образом объясняется в терминах интерсубъективности». Показательно дальнейшее развитие «темы интерсубъективности». Предполагается, что объект существует объективно тогда и только тогда, когда он существует и его существование является в принципе «доступным» (accessible) более чем одному возможному наблюдателю.
Более того, предполагается, что «возможного наблюдателя» (possible observer) можно «заменить» на «эпистемическую точку зрения» (epistemic standpoint). По определению, «эпистемическая точка зрения» находится в некоторой комплексной связи с окружающим «МИР-ом» (сравним с патнэмовским представлением о рациональной приемлемости) и является основанием для обоснования наших вер относительно него. Отметим, что понятие «эпистемической точки зрения» является методологическим, а не аксиологическим: относительно нее мы определяем рациональность вер, но не истинность.
Этот шаг, привязка объективности, через интерсубъективность, к «эпистемическим точкам зрения» нельзя назвать «достойным реализма», фактически это кантовский разговор о трансцендентальном, переведенный «на новый лад», но есть одно преимущество. Обращение к эпи-стемическим точкам зрения дает возможность оценить степень объективности, например, соотнося объекты, доступные эпистемическим точкам зрения Бога, человека и зеленых марсиан. Объективность как подтверждаемость с позиции одной эпистемической точки зрения можно рассматривать как некоторую «минимальную» объективность. В общем же случае объективность (понимаемая именно таким образом) может «изменяться» в зависимости от того, сколько возможных типов эпистемических точек зрения способны обоснованно утверждать существование объекта.
Что дает такое представление об объективности? О чем может идти речь, когда мы говорим о различных типах эпистемических точек зрения? На наш взгляд, речь идет о различных «эпистемологических» основаниях, которые являются достаточными для того, чтобы сформулировать определенные онтологические допущения. Отметим, что эти «онтологические допущения» могут (должны) быть разными. С точки зрения «эмпирически ориентированной» науки, с точки зрения представления, закрепленного в гипотетико-дедуктивной схеме, речь идет о различных теориях (моделях), которые связаны представлением о недоопределенности теоретического содержания эмпирическими данными. Что значит, две (физические) теории недоопределе-ны? Ранее мы уже обращались к анализу проблемы недоопределенности одного из наиболее сильных аргументов против научного реализма. Представление о недоопределенности является следствием представления о возможности «эмпирически эквивалентного» описания. Альтернативы T и T' будут описывать различные «причинные структуры», постулирующие различные «ненаблюдаемые» объекты, соответствующие анализируемому явлению. Тем самым можно говорить о различных эпистемических точках зрения. С точки зрения «эмпирической науки» тезису независимости в данном случае будет соответствовать «глубоко научное» эпистемологическое представление о том, что, например, изменение знания о реальности не может затрагивать саму реальность. Оттого, что Землю перестали считать плоской, что в свое время можно было считать хорошо обоснованным, рациональным «научным фактом», сама Земля не изменилась.
Можно ли говорить о различных типах эпистемических точек зрения в иронической науке? Да, во-первых, как было показано ранее, представление о недоопределенности различных моделей, правда в данном случае «теоретическим содержанием», сохранится и для иронической науки. Различные модели структурно однозначной теории будут «недоопределе-ны». Естественно, эта «недоопределенность» не является той недоопреде-ленностью, которая характерна для «эмпирической» науки. Она трансформируется в понятие, аналогичное понятию «неопределенность перевода», и сохранится в силу того, что абстрактные объекты, соответствующие данной модели, будут обладать внутренними проекциями (Г. Рейхенбах), которые, в свою очередь, будут обладать дополнительным (в данном случае теоретическим, связанным с выразительными способностями модели) содержанием.
Во-вторых, «выразительные способности» различных моделей структурно однозначной теории могут быть разными. Чем отличаются две модели теории струн, связанные преобразованием Г-дуальности? В первую очередь - выразительными способностями.
На наш взгляд, связав «эпистемологические основания» и выразительные способности различных моделей, мы можем адекватно, в данном случае, проинтерпретировать «различные эпистемические точки зрения». Отметим, что связь между «эпистемологическими основаниями» и «выразительными способностями» (идеологией) возможна только ввиду определенных натурализованных представлений. Понятие «эпистемической точки зрения», в контексте принятого рассуждения об объективности, является методологическим, а «эпистемологические основания» можно рассматривать как методологическую схему (определенного вида) только «после» натурализации (Л. Лаудан). Таким образом, осталось показать, что, связав объективность (понимаемую как причастность различным «эпистемиче-ским точкам зрения») с идеологией как «конструктивной схемой (основаниями), на которую можно “возложить бремя” онтологических допущений» (У. Куайн), можно действительно ограничить конструктивизм в отношении того, что может утверждать реализм (в данном случае в контексте иронической науки).
Здесь можно выделить, по крайней мере, два аргумента. Во-первых, «переход к интерсубъективности» остался незавершенным. Мы не настаиваем на равнозначности различных «эпистемологических точек зрения». Идеологии моделей, которые выступают «эпистемологическими основаниями», не являются эквивалентными, одни задают онтологические допущения «лучше», чем другие. Отметим, что и в случае «эмпирической науки» натурализованная эпистемология, несмотря на отрицание априорности, сохраняет нормативность уже в силу того, что в реальной научной практике не все методы научного исследования одинаково «хороши» (Л. Лаудан). Во-вторых, можно вспомнить представление о конвергентности как основании для «приближения к истине». Являются ли различные модели структурно однозначной теории «сходящимися»? Да. Отметим, что поскольку «сходимость» не является конституирующей для доктрины реализма (так же как и «истина») (М. Девитт), то аргументация в ее пользу должна быть независимой. . Ироническая наука принесет с собой новое представление о прогрессе, как бесконечный «поиск новых аспектов общей теоретической схемы, чьи характеристики дают возможность определить ее как “предельную” теорию
и чья “сложность” дает основание предположить бесконечность ее развития».